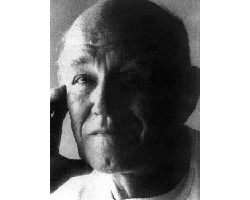Святослав Рихтер
Рихтер. Непокоренный.
Повсюду чужой и везде как у себя дома. Публикация дневников самого выдающегося пианиста нашего времени проявляет скрываемую от публики личность Рихтера: никаких умствований, просто впечатления, скупые, немногословные, без каких-либо прикрас.
Будучи неоднозначной и многоплановой личностью, Рихтер не принадлежал ни к какой определенной нации, а значит, принадлежал ко всем. Он вобрал в себя все самое ценное от русской, немецкой, французской и итальянской культуры. Повсюду чужой и везде как у себя дома.
Творчество Святослава Рихтера, влияние его личности на публику и собратьев по искусству (он единственный, кого все без исключения относят к числу наиболее выдающихся пианистов в истории) не укладываются в какую-то классическую модель.
После едва ли не беспризорных детства и отрочества, которые прошли в Одессе, где он самостоятельно постигает музыку и учится игре на фортепиано, он, не получив какого бы то ни было академического образования, уже в пятнадцать лет становится концертмейстером в оперном театре. В 1937 году перебирается в Москву. В том возрасте, когда большинство великих пианистов уже были профессиональными музыкантами, он становится студентом.
Генрих Нейгауз, один из наиболее известных советских пианистов тех лет, покоренный гением безвестного юноши, без раздумий берет его в свой класс Московской консерватории. Рихтер учится совершенно вне предписанной программы. За отказ (вещь немыслимая в годы сталинизма) посещать обязательные для всех занятия (студентам читали непременный курс «политических» предметов) его дважды исключают из консерватории, но каждый раз восстанавливают по настоянию Нейгауза. Его замечает Прокофьев и просит исполнить, с участием самого автора в качестве дирижера, свой Пятый концерт, «который не имеет никакого успеха, когда он, Прокофьев, исполняет его сам». Успех оглушительный, и это становится не столько началом артистической карьеры, сколько рождением легенды. Идет 1941 год.
С тех пор Рихтер разъезжает по всему Советскому Союзу, непрестанно пополняя свой репертуар, разросшийся, судя по всему, до небывалых размеров. К концу жизни он, не считая камерных произведений и бесчисленных опер, в том числе всех творений Вагнера, с музыкой и текстом, держал в памяти и исполнял наизусть около восьмидесяти программ разных сольных концертов.
Однако по причинам коренившихся в семейных обстоятельствах, ему не позволяют выезжать за границу, за исключением стран социалистического лагеря. Но Рихтер ни о чем не просит, не гонится за международной славой, не стремится к личному благополучию в противоположность большинству своих коллег, которым лишь концертные турне на Западе могли дать какую-то возможность улучшить свое материальное положение.
Кроме того, он почти единственный из великих сольных исполнителей своего поколения и своей страны, кто решительно уклоняется, не столько в силу сознательного неприятия, сколько в силу полного безразличия — он был не бунтарем, а строптивцем, — от членства в коммунистической партии. Творческая деятельность в исключительно советской среде не пугает его, да он, в сущности, ничего не боится. Поэтому никто не может давить на него.
Когда он наконец выезжает на Запад, сначала, в мае 1960 года, в Финляндию, затем, в октябре того же года, в Соединенные Штаты, ему идет уже сорок шестой год. Его первые выступления в Америке — серия из восьми сольных концертов и концертов с оркестром в Карнеги-холле — произвели на музыкальный мир впечатление взорвавшейся бомбы. Затем он отправляется в Европу, посещает Англию, Францию, Германию, Италию, Скандинавию и продолжает ездить по этим странам на всем протяжении шестидесятых годов. Потом настанет черед Японии.
Однако Рихтер недолго следует заранее составленному расписанию заграничных концертов. Не приемля какого бы то ни было распорядка, он играет, где и когда ему заблагорассудится, самочинно предлагая внеплановые программы аудитории, околдованной вулканической мощью и бесконечно тонкими оттенками его исполнения. После четырех турне в Соединенных Штатах он отвергает все новые предложения выступить в этой стране, внушающей ему чувство отвращения, за исключением, как он сказал сам, «музеев, оркестров и коктейлей». В 1964 году он устраивает фестиваль во Франции (Музыкальные празднества в Турене, в Гранж де Меле под Туром), затем фестиваль в Москве (Декабрьские вечера в Пушкинском музее), но иногда пропадает куда-то на целые месяцы.
Он с нескрываемым удовольствием отдается камерной музыке в сопровождении постоянных партнеров: Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха, Квартета имени Бородина, аккомпанирует вокалистам: Нине Дорлиак, Дитриху Фишеру-Дискау, Петеру Шрайеру в их сольных концертах; выступает с молодыми исполнителями: скрипачом Олегом Каганом и его женой виолончелисткой Наташей Гутман, альтистом Юрием Башметом, пианистами Золтаном Кочишем, Андреем Гавриловым, Василием Лобановым, Елизаветой Леонской, Андреасом Люшевичем, способствуя утверждению их репутации. Он играет с огромным числом дирижеров: Куртом Зандерлингом, Евгением Мравинским, Кириллом Кондрашиным, Лорином Маазелем, Леонардом Бернстайном, Рудольфом Баршаем, Гербертом фон Караяном, Серджио Челибидахе, Яношем Ференчиком, Кристофом Эшенбахом, Риккардо Мути, Шарлем Мюншем, Юджином Орманди, но главным образом со своими любимцами Вацлавом Талихом и Карлосом Клейбером.
С начала восьмидесятых годов он играет только с нотами на пюпитре в полутемных залах, где лишь смутно вырисовывается силуэт его плотной фигуры, создавая совершенно необычную атмосферу. Он пребывает в убеждении, что таким образом избавляет слушателя от бесовского искушения вуайеризмом.
Фирма «Ямаха» предоставляет ему в постоянное пользование два больших концертных рояля (и настройщиков, следивших за их исправностью!), сопровождающих его повсюду, куда бы ему ни вздумалось отправиться. Повсюду? За исключением того случая, когда в возрасте семидесяти с лишним лет он уезжает из Москвы в автомобиле и возвращается лишь спустя полгода. За это время он покрывает расстояние до Владивостока и обратно, не считая недолгой вылазки в Японию, в условиях, о которых просто страшно подумать, и дает добрую сотню концертов в городах и самых глухих поселках Сибири… Таким образом «миссионер» дает почувствовать, что больше ценит простодушное обожание аудитории Новокузнецка, Кургана, Красноярска и Иркутска, чем притворные восторги публики Карнеги-холла.
В этой книге нет ничего от биографии. На основе довольно неупорядоченного текста, составляющего более тысячи страниц, мне нужно было попытаться выстроить повествование, имеющее видимую связность, прибегнув к монтажу и пользуясь преимуществами, которые дает, по сравнению с техникой кинематографического монтажа, бесплотность письма. Я мог не брать в расчет нередко значительные различия звуковой среды, которые могли бы помешать стыковке фраз, записанных с многомесячным интервалом, пренебречь невнятным произнесением некоторых слов, отсутствием многих имен собственных, заменявшихся личными местоимениями «он», «она», «они», разобраться в которых весьма затруднительно, если не поставить вместо них имена соответствующих людей, а также посторонними шумами от столкновения микрофона с рукой собеседника.
К тому же речь Рихтера не поддавалась непосредственному переносу на бумагу. Ввиду того, что он нередко медлил с ответом, давал увлечь себя неожиданным поворотам мысли и то и дело переключался на мои попутные замечания, мне пришлось в немалой степени преобразовать ее, чтобы изложить в письменном виде, тем более что в процессе работы над книгой я решил отказаться от диалога, отдав предпочтение непрерывному повествованию от первого лица. Мне казалось, что такое решение гораздо больше отвечает ожиданиям читателя и способствует ясности изложения, в то же время не вынуждая меня отбрасывать синтаксические несообразности в духе Селина, свойственные речи Маэстро. Во всяком случае, я старался воспроизвести на бумаге ее весьма своеобразный ритм или хотя бы вызвать, даже прибегнув к неизбежному стилистическому транспонированию, ощущение «как сказано, так и писано», как выразился бы Монтень.
Из-за его отвращения к любому виду саморекламы, из-за упорного нежелания говорить о себе, молчания, которое он хранил на протяжении всей своей беспокойной жизни (и столь же беспокойного времени) — жизни, целиком посвященной музыке, которой он самозабвенно и бескомпромиссно служил, а также в силу того, что вопреки своему упорному молчанию он стал мировой знаменитостью, — Рихтер всегда был мишенью для всяческих слухов. Нисколько не боявшийся скандалов, он всегда стремился к порядку и правде: в партитуре, в искусстве, в поведении, — правде по-детски простодушной.
Истории, связанные с его музыкальной деятельностью, представлялись ему часто в высшей степени нелюбопытными, и я, уже задним числом, обратил внимание на то, что по недостатку времени, а также тем, по его мнению заслуживающих внимания, наши беседы с ним с точки зрения сугубо хронологической не перешли границы конца шестидесятых годов. «Все это вы найдете в моих тетрадях», — неоднократно повторял он мне. Таким образом, эти «тетради» становятся связующим звеном и составляют содержание второй части настоящей книги. Рихтер начал делать в них записи в рождественские дни 1970 года и продолжал писать, порой от случая к случаю, до осени 1995-го — до дней, на которые пришлась наша встреча и его последняя поездка в Японию.
Читатель увидит, что, хотя он очень мало говорит о самом себе, его личность проявляется в этих записях. Никаких умствований, просто впечатления, скупые, немногословные, без каких-либо прикрас.
Все переданные им мне записи составляют семь толстых школьных тетрадей со сплошь исписанными страницами. На странице слева поставлена дата (которая отсутствует лишь в нескольких случаях), указаны место, музыкальная программа, включая номер опуса и тональность, подробный перечень исполнителей, инструменталистов, певцов и дирижеров. Наконец, если он был в обществе, что случалось нередко, на этой странице перечисляются поименно все присутствовавшие.
Суждения Рихтера о музыкальном мире и музыкантах отличаются порою крайней язвительностью, производящей тем более сильное впечатление, что выражены кратко и без обиняков. Пусть же те, кого они могут задеть, примут во внимание, что убийственный юмор Рихтера, его горячность в критических оценках столь же свойственны ему, как и восторженность, и обращены прежде всего против самого себя.
Вполне вероятно, что в окончательной редакции я сделал упор на эпизодах, которые показались бы Рихтеру малозначительными (сколько раз он со смехом говорил, окончив рассказ о каком-нибудь забавном происшествии: «Но это все вздор, к музыке это не имеет никакого отношения!»). Но разве не отвечал он в лучшем случае достаточно бегло на вопросы, которые казались мне в высшей степени важными? И не следует ли видеть в этом взаимообогащении мыслями одно из истинных наслаждений, доставляемых такого рода игрой между «я» и «ты»? Как бы то ни было, я утверждаю, что ничего не присочинил, и в том, что касается конечного результата, я глубоко убежден, как это ни удивительно, что ни на йоту не погрешил против Рихтера.
С экрана улыбались полные неизбывной печали глаза Рихтера, а за экраном звучали двойные восьмые похоронного баса, которые Шуберт ввел дополнительно в коду второй темы в качестве аккомпанемента невыразимой тоске главной темы, затем шел крупным планом Рихтер, исполнявший эту сонату на концерте двадцатишестилетней давности.
Эпизод был волнующий, но лишний, и я убрал его из окончательного варианта фильма, ибо не было нужды пояснять, как я и публика признательны ему за все, чем он одарил нас.