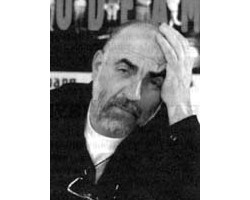Сергей Каледин
Сергей КАЛЕДИН. Кладбище. Церковь. Стройбат
Сергей Каледин начал путь в литературе прямо со славы. Его "Смиренное кладбище", опубликованное в "Новом мире" в конце восьмидесятых, заставило догнивающих интеллигентов ахать, цитировать и изумляться, а пожирателей чтива - пропускать, прилипнув к странице, нужную станцию метро. Сергей Каледин не только и не столько раскопал новую тему, но напомнил об Акакии Акакиевиче и обогрел его. И в "Смиренном кладбище", и в "Стройбате", и в "Попе и работнике" он пишет за тех, кто не умеет разговаривать...
Твое место - в тюрьме
- Сергей, все твои вещи слеплены из жизни, а потому спрашиваю не о том, что ты сейчас пишешь, а о том, чем ты живешь?
- Тюрьмой. Я как-то пожаловался своей подруге Люсе Улицкой на скуку, на то, что зарастаю какой-то чешущейся паршой, как пес, а она мне и говорит: "Твое место, Сережа, в тюрьме". Я ей: "Ты думаешь?" - "И думать нечего - в пятнадцати километрах от твоей дачи находится Можайская детская воспитательная колония, поезжай туда". - "Как я туда поеду, что скажу?" - "Поедешь к мэру города, скажешь, что ты - Каледин. Если он не козел, то читал тебя, а не читал, так книжку подаришь..."
Я так и сделал, как Люся сказала. Приехал к мэру Можайска, объяснил, что хочу в тюрьму к детям, сам толком не знаю, для чего, но, во всяком случае, расскажу им о литературе-культуре, пригоню им интересных людей - писателей, артистов, привезу книги бесплатно.
Начальник в колонии - очень интересный дядька, полковник Шатохин, тюремщик новейшей формации. Не держиморда, не угнетатель Солженицына, а человек, который понимает, что если тюрьму не открыть, то она всех нас съест, убьет, заразит СПИДом и сифилисом.
Пушкин был малоизвестным
- Сначала я решил вести у пацанов литературную студию. Но фокус не удался. Моя клиентура грамоту-то тихо знает, а не то что самим писать. Кто маму с папой ножичком зарезал, кто товарища утопил - времени на учебу особенно и не было. Тогда я несколько сменил пластинку, стал им рассказывать о жизни, ну и о литературе, конечно, привозить интересных людей. Вот ездил к ним недавно Валерий Золотухин, песни пел, пацанам понравилось. Ездили к ним поэты. Несколько библиотек прислали тьму-тьмущую книг. А они не знают, что с книгами делать. Я говорю: "Книга - бесплатное приобретение всего жизненного опыта, кайфа, разума". Я говорю: "Вот вам из Норвегии портки классные прислали, а вы возьмите за выучку носить всегда в боковом кармане книжицу и, как нечего делать, не дурака валяйте, а откройте и почитайте ее". И еще я придумываю всякий раз предисловие для книги и особую характеристику автора. Ну, скажем: "Пушкин Александр Сергеевич был малоизвестным поэтом и прозаиком". "Нет! - кричат они, - он известный был, знаменитый!" И радуются своей осведомленности, могут даже потом прочитать...
Но самая интересная акция вот какая. Я приехал в Новый Оскол в колонию к девочкам. Там тоже командует полковничиха продвинутая, опять не держиморда, опять понимает, что тюрьму нужно держать открытой. И вот я предложил девчонкам написать письма моим пацанам. Чтобы у них началась переписка. Закон вообще-то запрещает переписку осужденных с осужденными, но мои начальники - новой формации. Недавно по обмену опытом ездили в Норвегию и в Швецию. Вот и пошли мне навстречу. За два часа девки написали сто писем. И эти письма мы раздали пацанам. Пацаны их буквально рвали из рук. Я их предупредил: "Вы, пацаны, поаккуратней будьте, а то напишете какую-нибудь поганку и не ответят вам больше девки..."
И вот они стали переписываться. Если что-то выйдет из этой переписки, то ведь могут, сказал я пацанам, и мои друганы-журналисты этим заинтересоваться... Один мальчик влюбился по переписке в девочку; она писала стихи, и он ей писал стихи; оба - убийцы; сейчас он освобождается и едет к ней в Новый Оскол, где и она должна условно-досрочно освободиться...
И последнее пока: появился в колонии новый паренек. Закончил прекрасно школу, поступил в институт. На радостях выпил с товарищами. Стали куражиться. "А не слабо тебе, - говорят, - вот у той тетеньки сумочку украсть". - "Не слабо". В сумочке пятьдесят рублей было. Паренек получил пять лет. А через пять лет он, конечно, уже сломленным человеком выйдет. И вот тут у меня возникла мысль: дать ему учиться в институте заочно, чтобы как-то он мог ездить на сессии.
Пошел к полковнику, а тот говорит: "Есть у нас такая форма поощрения за хорошее поведение - отпуск. Так этот отпуск можно приурочивать как раз к сессии..."
- Тебе не мешает, не смущает то обстоятельство, что ты, так или иначе вмешиваясь в судьбы подростков, собираешь прежде всего материал для будущей книги?
- Да не думаю я пока ни о какой книге, просто понимаю, что могу этим ребятам помочь. Хотя, конечно, материал уникальный...
- Почему русский писатель должен непременно умереть, чтобы его поняли, а российский подросток непременно попасть в тюрьму, чтобы им заинтересовались?
- Мне интересны только те пиковые, чумные, безнадежные ситуации, когда помочь уже ничем и никому нельзя, а все-таки, оказывается, можно...
Писатель по маминой воле
- Сергей, ты всякий раз осваиваешь какой-то уникальный пласт жизни, а потом пишешь о нем. Какая идея влечет тебя, нуждаясь в жизненном подтверждении?
- Да никакой идеи! Вот смотри: шел я как-то в 1976 году мимо собора Пятницкого кладбища, прогуливал лекции в Литературном институте, а тут выскакивает на меня мужик, такой интеллигентный еврей в очках (потом выяснилось, что он - диссидент, отказник, кандидат наук), и кричит, что какому-то там Воробью голову пробили и нужны подсобники. Я зашел, был у него подсобником. Интересно...
- Как ты смог приспособиться к этой жизни на кладбище?
- Отлично. Я здоровый, хорошо работал. Потом я ж могу говорить, балаболить, клиента обработать. И Воробей, вышедши из больницы почти совершенно оглохшим, с удовольствием взял меня к себе в пару. Завелась у нас монета хорошая. Квартиру выкупил кооперативную, с барышнями кутил в ресторанах. Прекрасная жизнь: в центре Москвы, нет советской власти, столетние вязы, могилы декабристов, кругом поминки, пей сколько угодно... А уволился я, когда потерял нюх на деньги, то есть их у меня было столько, что я уже не понимал, сколько много, а сколько мало.
- И сел писать книгу?
- Да ты что! Я ведь писателем стал не по доброй воле, меня мама заставила. Она стала меня укорять, что я никак диплом в Литинституте защитить не могу. "Ты, - говорит, - наверное, у меня идиот". - "Да не идиот я, мама!" - "Нет, наверное, все-таки идиот".
Я брал два раза академический отпуск в Литинституте, а диплом написать не мог. Да меня и в институт устроили по блату, на переводчика с татарского. А я и не учился, гулял и пил все время. Мама приехала ко мне и говорит, что будет у меня жить, пока я диплом не напишу. "О чем?" - "Да пиши, - говорит, - прозу". - "Прозу? Я прозу никогда не писал!" А она: "Ты ведь на кладбище работал, вот и пиши об этом".
Я написал. Через десять лет опубликовали. И стал знаменитым. Но меня, повторяю, не влекла, как Гагарина, с детства высота, я от мамы хотел отбрехаться, чтобы она меня не трогала...
- Так мама, пока была жива, тебя и заставляла, что ли, писать?
- Так и заставляла. Мама у меня была красавица, кандидат филологических наук, переводчица. Мой первый редактор. Вот пять лет назад вернулся я откуда-то из-за границы и приехал к маме на дачу - продуктов подвез, сыновье почтенье выказал. Двигатель не выключаю, тороплюсь в Москву. Мама мне в Москву не велит ехать, а опять велит сесть в деревне и что-нибудь написать. "Куда, - говорит, - тебе, дураку, торопиться". Я заартачился: у нас с мамой был договор, что я должен три раза в "Новом мире" опубликоваться, стать знаменитым, и тогда я свободен. Я все сделал, как договаривались, и имею право жить, как хочу. "Отстань, - говорю, - мама, я все выполнил". А она: "Я тебе сейчас чайку заведу, щи у меня вкусные, может, все-таки завтра поедешь? А то и вовсе останешься, вынешь машинку пишущую, старушку-мать порадуешь какой-никакой повестушкой?"
Тут нужно заметить, что писать я умею, а выдумывать не могу. И мама мне всегда придумывала и темы, и названия. Она мне присоветовала написать про Израиль. А что тут нового скажешь? Уже все написали про Израиль, уже все знают. Что антисемитизм отвратителен, а израильтяне - доблестные бойцы. А мама на это: "А ты, - говорит, - отправь в Израиль не самого себя, а нашего соседа по даче Владимира Ивановича Меркулова, плотника-пьяницу".
Сосед - мракобес, упертый, упрямый с самомнением, антисемит, естественно, - все как положено. Как его в Израиль зашлешь? "А ты придумай, - говорит мама, - чтобы он на заработки туда поехал, затяни его туда, и все само пойдет". Я и затянул. Написал повестуху "Тахана мерказит", отдал мамане, она и отпустила меня в Москву...
Не вышло из меня хулигана
- Ты рос в счастливой семье, родители не развелись?
- В семье жил счастливой. А родители развелись, когда мне было одиннадцать-двенадцать. Ну, развелись и развелись, а у меня два дедушки, две бабушки, все подкармливают, все жалеют и берегут. Мама снова вышла замуж, а папа остался один.
- Отчим нравился тебе?
- Очень. Походник, путешественник, хемингуэевского типа такой мужик...
- А отец?
- Отца обожал, и некоторое время надеялся, что мама его простит, хотя прощать его было и не за что. Мама решила, что отцу очень плохо одному, и предложила мне пожить с ним. Я согласился с ликованием...
- Ты рос послушным мальчиком? Задумчиво читал книжки?
- Куда там! Маму постоянно вызывали в школу. Учителя меня ненавидели. Я не выношу, когда мне велят, - в этом все дело. Хотя в облике у меня ничего хулиганистого не было: был толстоват, невысок ростом, плакал над романом "Без семьи", когда умирала там обезьянка, но вот приказов не терпел. И так всех доставал, что, случалось, мой дедушка по маминой линии, выпив немного, задумчиво говорил моей матушке: "А что, если я его, Тамарочка, молоточком по темечку ударю легонько, - и все твои беды закончатся. Ты, конечно, дня три, Тамарочка, поплачешь, зато какая жизнь у тебя потом начнется! А мне что здесь помирать, что в тюрьме..."
- А ты кем же хотел стать?
- Хулиганом. В четырнадцать лет захотел стать красивым хулиганом, типа "Здравствуй, моя Мурка". Но не вышло. Оказалось, что хулиганы ужасно скучные, а я уже начал читать Ремарка. Огляделся я вокруг, стал думать, что делать дальше. Из школы меня в то время уже выгнали...
- За что?
- Не знаю. Даже директриса, которая объявила в РОНО: "Либо он, либо я", и та толком ничего объяснить не смогла. И папа взял меня на работу в конструкторское бюро. Я назывался исполняющим обязанности ученика чертежника. Это было такое третьеразрядное КБ в подвале с загаженными стенами, где прижились с начала пятидесятых годов мужики, большей частью евреи, укрывшиеся там на излете сталинского правления. Атмосфера - с повышенным градусом интеллектуальности и гуманитарности. Я ходил на работу как на праздник. Экстерном закончил школу. Поступил в технический институт и не отказал себе в удовольствии зайти в школу и подразнить бывших учителей и одноклассников: они там все сдают экзамены на аттестат зрелости, а я эдаким Збигневым Цибульским в темных очках еду в горы к длинноногим красавицам пить маленький виски...
- Закончил институт?
- Нет, скучно стало. В армию ушел.
- И привез оттуда роман "Стройбат"?
- Именно.
- А как ты в церкви стал работать?
- А возле нашей дачи в деревне - церковь Покрова Божьей Матери, и мы с женой Ольгой любили там гулять. В церкви работала такая черная сухая старушка Вера Борисовна, староста. Однажды я ее встречаю на станции Партизанская; она идет с чайником, темная, грустная. "Чего вы такая мрачная, Вера Борисовна?" - "Ой, - говорит, - беда: батюшка новый выгнал истопника Сашу. Вишь ты: Сашенька наш - еврей ему! А что же, Иисус Христос татарином был, что ли? А теперь осень на носу, котлы размерзнут, кто топить будет? Я, что ли? Я не могу, я старая. Фрески попадают, конец храму". "Ты, - говорит, - Сереженька, ехай в Москву, найди мне мужичка какого-нибудь ледащего, слабоголового, только непьющего. Чтобы церкву не спалил. А так любого... Чтобы только ведра с углем донес. А я его покормлю, деньжат дам".
Я поехал, всех обзвонил, никто не хочет. Я и говорю Ольге: "Слушай, Вера Борисовна ищет слабоголового, ледащего - мне подходит. И чтобы не пил. Я выпить люблю, а в церкви не буду".
И стал я истопником. Семь месяцев жил при церкви постоянно. Однажды вышел конфуз: сплю я ночью, вдруг вбегает ко мне Вера Борисовна: "Вставай, Сережка, беги в церкву, в алтаре забыли свечку потушить, вот-вот все займется, пол деревянный - быть беде". Я мчусь в церковь в подштанниках, залетаю, только кинулся к алтарю, вдруг она сзади: "Ты крещеный?" - "Нет".
И женщине нельзя в алтарь, и некрещеному нельзя. "Господи, кого взяли!" - выдохнула Вера Борисовна. А я остановился, повернулся к ней, а волосы у меня к тому времени отрасли и стали завиваться пейсами, выдавая одну четверть моей еврейской крови. "А ты не еврей ли?" - "Вера Борисовна, в храме врать не буду!" - "Ой, батюшка дознается! Ой, что будет!"
- Что же тебя интересовало в церкви?
- Бог интересовал, религия.
- Хороши?
- Хороши были неграмотные мои старухи - Вера Борисовна, еще несколько теток, которым вера помогала переносить и терпеть все тяготы их страшных жизней. У Веры Борисовны сын погиб, муж спился и помер. Тогда закрыла она дом и ушла в церковь на недолгие годы счастья. Как-то заболела она, приехал ее причащать священник, спрашивает про грехи. Вспоминала она, вспоминала... А он ей отвечает, что это не грех и то не грех. Наконец, вспомнила она, что в 32-ом году сделала аборт. Ну вот один грех за ней и признали.
У нее хранились огромные деньги церкви, а она спала в ветхой избенке и не боялась воров. Говорила, что не отдаст им деньги, даже если пытать будут, а с радостью пострадает за дело Христово...
Все остальное - театр религиозных действий.
- Не уверовал?
- Нет, но обрядовость православная мне очень нравится. А так-то я и в пионерах не был, в комсомоле не был и креститься не буду. А Вера Борисовна все переживала, что если я не крещусь, а со мной что случится, то не будет у меня даже ангела, которому ей за меня надобно помолиться... Как мы с ней сидели вечерами, как гоняли в трапезной чаи...
Я влюблялся в тещ
- Как-то получается, Сергей, что тебя интересует только жизнь странная, отдельная, без властей, без времени реального на дворе. А как ты строишь свою семью?
- Для меня всегда были очень авторитетны красивые женщины, похожие на мою мать: веселые, умные, твердо стоящие на земле, при деньгах, чувства страха никогда не испытывающие. Такой была моя первая теща, Агнесса Элконина. Я из-за нее и женился-то в первый раз, в ее честь названа моя внучка. Агнесса, как ее называли все в семье, была роскошной, красивой, вальяжной; в сложные минуты жизни я приходил к ней с незадачливыми вопросами о том, как жить. Агнесса отвечала: "Мужчине подсказывать я не имею возможности и права". Я возражал: "Я не мужчина", и спрашивал: "А кто - мужчина?" Оказывалось, что мужчина, например, - Феликс. А кто же такой Феликс? Феликс - офицер, еврей, красавец, который летал над Кореей и одновременно обожал Агнессу. Агнесса же в недостаточной степени любила его. Феликс понимал Агнессу и говорил: "Я тебе не чета, моя дорогая". Агнесса говорила: "Только не умирай. У тебя сердце лопается, но ты не умирай, думай о хорошем". Он отвечал: "Это совершенно наплевать, моя дорогая, что лопается сердце, я тебя люблю..." И так далее.
Я спрашивал Агнессу: "Что вы любите?" Она отвечала: "Я люблю во-первых и во-вторых - мужчин, но что это такое, я не могу четко сформулировать..."
Вторая моя теща - Эстер Яковлевна Гессен - была переводчицей с польского. Жена вторая была никудышная, а теща - класс: Зенона Коседовского переводила. И вот эту тещу, когда ей было 19 лет, каждую ночь тягали в ГПУ (КГБ) и предлагали сотрудничать. Теща сотрудничать отказывалась, ее били и недоумевали, почему она не соглашается. А она говорила, что она - еврейка и по еврейскому закону не имеет права врать. Я, Сергей Каледин, может быть, и плюнул бы на этот закон, а она не могла - так и не согласилась...
В третьем браке теща была ни при чем. Я был женат на Татьяне Бек - очаровательной поэтессе, в стихи которой влюбился в шестнадцать лет. Я плохо себя вел по отношению к Татьяне Бек, но все-таки снискал славу. Эта слава выражалась в следующем: "Я люблю тебя всего лишь,/ Но не верю ни на грош,/ Что же ты меня неволишь/ И за воротник ведешь,/ Мой невероятный кореш..."
А потом моя книга попала в издательство, и мне говорят, что редактором мне назначили Ольгу Ляуэр. Я испугался, решил - картавая, в очках; а у меня кладбище, у меня алкаши несчастные - не пропустит. Но ничего, обошлось.
Поехал к ней домой в гости, озираюсь по сторонам, беру телефон, заглядываю в пазухи, в заушины на циферблате, где грязь должна быть, а грязи нет. Ну, у всех в этих заушинах грязь, а у Ляуэр - нет. "У, - думаю, - как интересненько, ну неплохо было бы на этой девке поджениться".
И опять попал в дом к бесстрашным бабам... И опять судьба меня встретила с необыкновенной женщиной, с тещей: я до этого фокусировался на еврейках, а теперь мне выпала ингерманландка Ида Сокко. Она - лютеранка. Что такое лютеранка и что такое ингерманландка? Это значит, что она не знает и в глубине души даже не предполагает, что есть страх. Я-то сам - человек трусливый, и восхищает меня в женщинах презрение к страху...
Послесловие к "Шинели"
- Сергей, самое главное, что, наверное, есть в твоих вещах, - жалость к маленькому человеку...
- И это было во мне с самого начала. Меня интересовал человек с неразработанным голосовым аппаратом, который сам о себе ни рассказать, ни написать не может. Я почувствовал, что ему есть что рассказать, его распирает, но сам он не может. Ни на кладбище, ни в церкви, ни в стройбате. За него нужно додумать, догадаться... Странно: я пишу и вдруг чувствую в какие-то моменты, что пишу не я, а кто-то мне диктует, и страницы эти уже не нуждаются в правке... Кто? Может быть, Бог...
- Ты много сейчас читаешь?
- Читаю всё. Все толстые журналы. От корки до корки. Мемуары, исторические статьи, литературоведческие исследования - блистательные публикации. А прозы настоящей нет. Литературной жизни нет. Даже сплетен о писателях настоящих нет. Не интересны никому писатели.
- А киношники?
- Киношники!.. Включаю телевизор, и Никита Сергеевич Михалков сообщает мне, что на его фильм "Сибирский цирюльник" люди записываются в очередь за билетами на годы вперед. Смотрю тут же, что в кинотеатре "Мир" возле моей квартиры аккурат идет тот самый фильм. Побежал я и купил билеты. Повезло. Приходим вечером с женой в кино и считаем: в зале ровно сорок восемь человек. Жена моя - сорок седьмая, я - сорок восьмой. А зал - полторы тысячи мест. Вот и все про кино.
- А Муратова, Герман?
- Ранние их фильмы люблю, обожаю, а нынешние мне не по силам. Возьму кассету, сяду перед экраном: вроде бы и хочу смотреть, а у самого спина начинает болеть - не болела ведь, а начинает болеть. Или того хуже - чесаться... И вспоминаешь, что сосед звал на шашлыки... А фильм идет... А тут еще думаешь, что жена обещала чаю принести, а не несет... А фильм продолжается...
- А гуляют сегодня люди так же, как раньше, или по-другому?
- Конечно, по-другому! Для полноценной гулянки необходимо соблюдение некоторых условий. Первое - абсолютная безнадежность. Второе - абсолютная безмятежность. Третье - нищета. Все равны, любовь бескорыстна, в портвейн все укладывается. Идет гулянка по всей территории страны, прекращать гулянку не нужно, поскольку ничем не нужно заниматься: результатов твоих занятий не будет видно никогда...
Сейчас важнейшие компоненты веселой жизни утрачены. Безнадежность уже не полная: что-то можно поделать, деньги заработать - значит, не лишено смысла быть с трезвой головой, пригодится. Нет и безмятежности: мозги заняты тем, как сбить копейку, как прокормиться. Да и нищета уже не та - она стала агрессивной, она уже не всеобщая бедность, которая не задевает чувства собственного достоинства, не общий фон...
- Что тебе как писателю дала свобода?
- Ничего. Русь смурная ходит. Все друг другу завидуют, ненавидят: не притулились в капиталистической атмосфере, не умеют пока. Все коряво, провинциально, грубо.
Нет, все-таки литературе русской хорошо было развиваться в условиях цензуры: нужен гнет, нужно ощущение ратоборчества, что ты - мессия, спасаешь человечество, страдаешь. Русскому писателю, по словам Геннадия Головина, как кислой капусте, нужен гнет - чтобы хорошо получалось. Как замечательно писать, когда ты запрещен, когда тебя не издают, а все про тебя шу-шу-шу да шу-шу-шу...