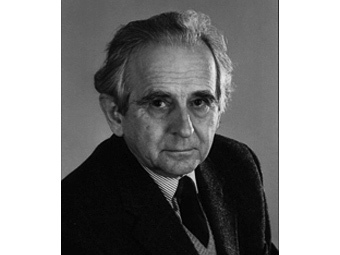Селим Хан-Магомедов
Потомок пророка
3 мая умер русский ученый, академик Селим Омарович Хан-Магомедов.
Лет 15 назад я брал у Селима Омаровича интервью по поводу возможного перезахоронения Владимира Ленина. По взглядам Хан-Магомедов никак не был коммунистом. Его книги о русском авангарде десятилетиями не издавались в СССР, хотя для западных архитекторов, начиная с 60-х годов, его "Пионеры советской архитектуры" (сначала в немецком, потом в английском переводе) стали своего рода священной книгой. Его ученикам не давали защищать диссертации, руководимые им научные подразделения постоянно расформировывали, в общем, ему было не за что быть лояльным. Его позиция состояла в следующем. Ленин был сложным человеком, это понятно. Но Ленин был заметным человеком, и это тоже понятно. Он сделал то, чего до него не делали, и это известно в мире. Поэтому не следует тревожить его могилу.
Изложив мне эти мысли, он посмотрел на меня с легким напряжением в глазах и спросил, как мне кажется, сильно ли я изменился, став журналистом (когда-то я был ему представлен в качестве историка архитектуры). Он пояснил свой вопрос так. "Я ездил с одним молодым человеком смотреть конкурс молодых дизайнеров мебели. Они хотели продолжать традиции 20-х годов. Не получалось, но не об этом речь. В газете вышла статья этого юноши, он записал, что я сказал. Статья называлась "Что увидела Алиса". У журналистов свои обычаи, я понимаю. Но мне бы не хотелось, чтобы вы меня называли Алисой, не все понимают ваши обычаи".
Один архитектор рассказывал мне, как они вместе с Селимом Омаровичем приехали в конце 60-х в Дагестан. Селим Омарович много сделал для Дагестана, он объездил все горные аулы этой страны и создал то, что называется историей архитектуры Дагестана. Причем свои отчеты об экспедициях он издавал уже в постсоветское время и за свой счет — за деньги, полученные от изданий его книг об авангарде на Западе. Понятно, что в Дагестане его чтили. Но как!
Мой знакомый рассказал мне, как утром, когда они проснулись в гостинице, он вышел на балкон и увидел, что площадь перед ней заполнена всадниками. Селим Омарович вышел вслед за ним, и площадь огласилась приветственными криками. "Веди нас, потомок пророка!" — кричали спустившиеся с гор джигиты доктору искусствоведения, академику архитектуры и действительному члену Академии художеств, лауреату разнообразных российских и зарубежных премий, почетному профессору разных зарубежных университетов Селиму Омаровичу Хан-Магомедову.
Не знаю достоверно, правда ли он был потомком пророка Мухаммеда в семидесятом с лишним колене и, стало быть, старшим родственником царствующего дома Иордании, или то, что он хан, и хан от Магомета — это просто случайное свойство его фамилии. Но я всегда принимал его высокое происхождение за правду и, по-моему, он и сам так считал. Когда я думал о нем, у меня всегда получалось как-то так: каким должен быть потомок пророка в нашей сегодняшней (или прошлой советской) жизни. Как он должен смотреть на других, что делать, какими критериями мерить.
Ему было свойственно два прямо противоположных качества.
С одной стороны, невероятная пассионарность. Он сам обошел больше 150 семей тех, кто составлял когда-то, в 20-е годы, русский архитектурный авангард, обследовал архивы, записал интервью и издал почти сотню книг о них. "Это были очень разные люди, иногда очень испуганные, вдовы, дети, племянники. Иногда они боялись. Но я говорил им, вы п

рятали это десятки лет, на дачах, в антресолях, в подвалах, вы боялись, что вас арестуют, но вы хранили эти вещи. Зачем вы это хранили? Вы ждали, что придет день, когда это оценят. Сегодня этот день. Я пришел". И они его слушали, и он писал и издавал книги. Зимой. А летом он сам объездил 130 горных аулов и издал больше тысячи памятников Дагестана. В этих аулах не любят чужих. Но он приезжал и говорил, что они хранят дома своих предков сотни лет — затем, чтобы люди о них помнили и знали о них. Они ждали дня, когда придет человек и расскажет им, что они хранили. Потому что была слава Дагестана, и должен быть тот, кто расскажет об этой славе. И этот человек приходил, и это был он.
Кажется, что человек, успевший сделать, что он сделал, должен был всегда бежать. Но он был неправдоподобно спокойным, и даже в его присутствии возникало ощущение, что все как-то мельтешат. Быстро говорят. Суеты много в людях, и они не успевают в суете увидеть стоящего. По роду своих занятий он общался все с людьми интеллектуального свойства, знатоками интеллектуальных мод, мастерами логических построений и парадоксов, и на разнообразных ученых заседаниях его появление производило странный эффект. Вдруг оказывалось, что мысль, которая тебя увлекает и волнует, является форменной мыслительной суетой.
Его книги в общем-то просты. От своего легендарного предка он не унаследовал цветистости слога и извилистости мысли, которая так вдохновляет в Коране, он писал почти летописи. Пришел такой-то, сделал то-то, умер. Потом пришел другой. Особенность этих книг в том, что он как бы взвешивал деяния. Просто говорил — об этом надо помнить, а здесь чего помнить-то?
Как-то у него был доклад в Академии архитектуры, и он там сказал такую фразу: "Я бы разделил русскую архитектуру ХХ века на три автономных в эстетическом плане явления. Во-первых — это авангард. Во-вторых, сталинский ампир. И наконец, в-третьих, "бумажная архитектура" 80-х годов. Все, что остается за рамками приведенной классификации, не представляет профессионального интереса". Специфика академии в том, что туда избирают людей пожилых, а это как раз люди, создававшие брежневскую архитектуру и в меньшей степени хрущевскую. И вот они сидят, выходит академик Селим и говорит — все, что вы, ребята сделали, не представляет профессионального интереса. И, может, им и горько это слышать, но он такой человек, что если так сказал, то что делать — так и есть. Жили вот, пытались чего-то, не вышло.
Он родился в 1928, и в свои восемьдесят не выглядел очень старым, но при этом как-то так держался, что казалось, ему лет двести. В селах бывают аксакалы, они сидят на майдане, и мимо них проходят люди. Он не был на них похож, он был интеллигентным московским профессором, даже со сдержанным изяществом в манерах. Но он спокойно сидел, а мимо него проносили столетия. И он видел свою роль в очень простом деле — смотреть и отмечать тех, кого запомнят люди. Для этого не нужно очень сложно говорить, нужно просто обладать мудростью для взвешивания людских деяний. И не было фигуры, которую он не заметил. И не было того, кого он назвал зря. Я много читал Хан-Магомедова, и много раз встречал ссылки на него и цитаты из его книг. Но я ни разу ни у кого не прочитал фразы: "Селим Омарович Хан-Магомедов ошибается, когда..." Он не ошибался. Просто как говорил, так и есть.