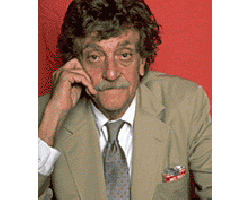Курт Воннегут
<ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО И НИ КАПЕЛЬКИ НЕ БОЛЬНО>
Американскому писателю Курту Воннегуту, автору знаменитых романов "Сирены Титана", "Колыбель для кошки", "Бойня номер пять", "Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер", "Завтрак для чемпионов", "Малый не промах", "Фокус-покус", исполнилось 80 лет. Сегодня его произведения, представляющие собой уникальный сплав фантастики, философии, черного юмора и эмоциональной публицистики, стали бесспорной классикой. А их влияние на формирование мировоззрения послевоенных поколений трудно переоценить... Английский писатель Кристофер КЕМП взял интервью у Воннегута вскоре после трагедии 11 сентября (оригинальная версия напечатана в журнале Salon).
-- В чем смысл жизни?
-- Гм. Мой сын очень неплохо пишет. И написал он как-то книгу под названием "Эдемский экспресс". Я говорю о моем сыне Марке, педиатре, который однажды настолько спятил, что поступил в Гарвардский медицинский колледж, где его подлечили до такой степени, что он ухитрился этот колледж окончить. Да, так вот. Одна его мысль мне очень понравилась, и я процитировал ее в нескольких собственных произведениях. А мысль такая: "Мы рождены, чтобы помогать друг другу преодолевать все, что будет нам ниспослано". Ничего, да?
-- Смерть -- основная тема многих ваших книг. Почему вы отводите ей такую существенную роль?
-- Ну, это ведь жутко всем интересно. Народ обожает смотреть на две вещи -- на то, как люди трахаются, и на то, как людей убивают. (Смеется.) Вот что действительно захватывает. Да и видим мы это нечасто. Одна девушка, моя студентка, как-то пожаловалась, что в жизни не видела мертвого человека. А я ей сказал: "Потерпи -- все будет".
-- Ваша мать покончила с собой в 1944 году, накануне Дня Матери. В годы Второй мировой вы были солдатом. Как, по-вашему, события, произошедшие с вами в молодости, повлияли на ваше отношение к смерти?
-- Не думаю, потому что они были достаточно четко предопределены. Понимаете, если бы меня, например, воспитали в католической вере, то я -- как хороший мальчик -- верил бы или пытался верить в то, во что верят католики. Но мои предки, приехавшие в Америку перед Гражданской войной, были атеистами и верили в науку. Люди образованные, они полагали, что священник или там проповедник понятия не имеют о том, о чем болтают. Они считали, что в Книге Бытия ничего, кроме вздора, нет, а Иона с китом... ну, и так далее. Короче, они были рационалистами -- по-моему, так это называлось. Они несли свою религию атеистов-вольнодумцев.
Если я не ошибаюсь, в одном моем очерке была такая мысль, что мы стараемся поступать как можно лучше, не ожидая никакой награды и не боясь наказания в загробной жизни.
Ницше, на которого необоснованно нападают, но который, между прочим, не имел ничего общего с нацизмом, сказал буквально следующее (по-немецки, конечно): "Только глубоко верующий человек может позволить себе быть скептиком". Я знаю, что происходит что-то ужасно важное. Я имею в виду, Господи, что все так неспоко

йно, и я... да, я обладаю той самой глубокой верой. Так вот, скептицизм -- это вовсе не роскошь. Смерть фигурирует в моих книгах потому, что я люблю вечный сон. Черт, запутался. Наверное, не вечный, но сон.
-- В вашей книге "Будьте здоровы, доктор Кеворкян" вы совершаете несколько вылазок на небеса в качестве репортера. Ваша цель -- взять интервью у духов, которых вы встретили между Синим Туннелем и Жемчужными Вратами. Книга замечательная. Но вы вообще верите в существование загробного мира?
-- Забавно размышлять об этом. Я не раз представлял себе загробный мир, потому что это интересно. Там проблемы с гостеприимством и мало развлечений, так что жить там просто невозможно. (Смеется.) В какой-то книге (не помню, в какой именно) я придумал такой рай, в котором после смерти вам пришлось бы существовать все время в том возрасте, в каком на Земле вы были счастливее всего. И для меня это вылилось в самую настоящую неразбериху, потому что моему отцу было 10 лет...
-- А какой возраст предпочли бы вы, окажись вы в подобном раю?
-- Самый лучший возраст для мужчины -- 44 года. Вам сколько?
-- 28.
-- Вот как 44 исполнится, вас наконец начнут воспринимать всерьез.
-- В декабре 1944 года вы оказались в немецком плену. В "Бойне номер пять" вы пишете, что едва избежали смерти во время бомбардировки Дрездена...
-- С позволения сказать, это ваши соотечественники-англичане чуть не убили меня. После столь длительного добрососедства вы, парни, выжгли город дотла, превратили его в огненный столб. В этом аду погибло, задохнулось больше народу, чем в Хиросиме и Нагасаки, вместе взятых.
-- Я настаиваю на своей непричастности к бомбардировке Дрездена...
-- В некоторых ситуациях вы, англичане, ведете себя неподражаемо. Я вот тут думал о маршале Харрисе, Харрисе-Бомбомете, том самом, что стоял во главе Королевских ВВС и полагал, будто воздушные атаки на гражданское население заставят немцев сдаться, хотя в самой Британии произошло как раз обратное. Парни из Королевских ВВС -- все до единого! -- выступили против сооружения памятника Харрису. Но, думается мне, памятник все-таки установили. А позор за то, что Харрис заставил их сделать, лег на всех, абсолютно всех парней из ВВС. И все из-за спортивного интереса.
11 сентября тоже был настоящий ад. И, к

онечно же, шок от того, что видели по телевизору. Мы ведь живем тем, что там показывают. И реагируем именно на то, что происходит в ящике. Но, Бог мой, ну и мозговитые же парни -- те, кто осуществил эти атаки! Мне и в голову не приходило, что здания такие хрупкие.
-- Ваша квартира далеко от места теракта?
-- Приблизительно в трех милях. Далеко. Знаете, когда что-то подобное происходит, я думаю: "Боже, Везувий проснулся!"
-- Не считаете ли вы, что телевидение уделило слишком много внимания этим атакам, если сравнить масштаб произошедшего с Дрезденской трагедией, когда погибло 135 тысяч?
-- Знаете, что мне не нравится? То, что так они отвлекают наше внимание от всего остального. Центральная тема, куча подробностей -- и все. А в Конгрессе тем временем дурака валяют, ведь телевидение только и делает, что атомными взрывами пугает да Афганистан показывает.
-- Во многих ваших произведениях вы утверждаете, что эволюция -- что-то вроде неудачной сделки. Людей наделили слишком большим для них мозгом. В свете событий на Манхэттене и в Афганистане можно ли утверждать, что это последствия использования людьми чересчур больших мозгов?
-- Да. Эволюция -- дело чрезвычайно неудачное, какими бы ни были ее механизмы. И я тут не упираю на естественный отбор. Что бы там ни действовало, это бессознательно и бесцельно.
Но, знаете, научная фантастика уже затвердила в наших умах представление о том, что мы не остановим войны и не вылечим рак до тех пор, пока не прилетят парни на летающих тарелках и не расскажут, как это сделать. Или до тех пор, пока мы не задействуем еще одну долю головного мозга и не станем умнее. Но ведь мы умнеем. Люди умнеют, как слоны, которые в минуту опасности говорят: "Эге, мы в опасности, но все будет путем, только надо весу поднабрать, фунтов 200-300", -- или как жирафы: "Жизнь -- дерьмо, но все наладится, если только у нас шеи еще чуток вырастут".
-- А что бы сказал Килгор Траут, ваше альтер эго, по поводу терактов?
-- Гм, мне надо подумать минутку. Я ж не его представитель. Это отдельная личность... Он очень многому не придавал значения. Возможно, он вообще воздержался бы от комментария. Воспринял бы это как очередную автокатастрофу или что-то вроде того.
-- То есть эти события не были бы для него столь важны?
-- Имен

но. Но вот глобальные изменения его бы заинтересовали. Глобальные, медленные и необратимые изменения.
-- Какую смерть вы предпочли бы для себя?
-- Не знаю. Когда я был солдатом, желал только одного: чтобы не было больно. Наверное, безболезненную смерть я бы и выбрал. Я ненавижу боль и люблю спать. Моя любимая сестра умерла от рака, и ее последними словами были возгласы удивления: "Не больно! Не больно!" Это было так хорошо...
-- В одном интервью, где вас спрашивали о том же, вы сказали, что хотели бы погибнуть в авиакатастрофе на горе Килиманджаро. У вас тогда настроение было лучше?
-- Нет, это у Рея Брэдбери есть рассказ, где он выдумал такую смерть как наиболее подходящий вариант для Хемингуэя. Хотя, может, я так и сказал. Просто дурака валял. У меня сейчас такое же чувство, какое было в конце войны: "Я сделал все, что от меня требовалось, пожалуйста, отпустите меня домой!" Вот и теперь то же хочется сказать. Но тут я думаю: стоп, а где же этот чертов дом? Чего бы мне по-настоящему хотелось -- так это вернуться в Индианаполис, в то время, когда еще были живы сестра, брат, мама и папа. Это невозможно. Но если бы это было осуществимо, я бы хотел, чтобы моя семья была жива. И я бы умер среди них.
-- Вы придумывали для себя эпитафию?
-- Да. Звучит следующим образом: "Все было прекрасно и ни капельки не больно".
-- Чего вы больше всего боитесь?
-- Что с моими детьми и внуками что-нибудь случится.
-- Какая книга повлияла на вас сильнее всего?
-- Думаю, "Кандид" Вольтера.
-- А какую из чужих книг вы хотели бы написать?
-- Мне хотелось бы быть автором "Ромео и Джульетты".
-- Вы о чем-нибудь жалеете?
-- О куче всего.
-- В нескольких ваших романах герои проваливаются во времени. Во "Времетрясении" это приводит к тому, что все заново переживают последнее десятилетие XX века, повторяя все, что было в первый раз. Вы верите в то, что наше будущее предопределено?
-- Будущее, возможно, так же влияет на нас нынешних, как и прошлое. Жизнь -- штука замысловатая. И мне действительно кажется, что будущее куда сильнее воздействует на настоящее, чем мы себе представляем. И ничего с этим поделать нельзя.
-- То есть, по сути, мы идем тропой, для нас уготованной, и ничего особо изменить не можем?
-- Боюсь, что так. А что, у вас проблемы