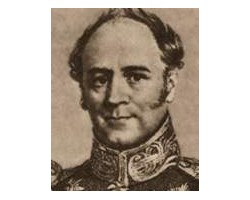Александр Бенкендорф
Потемки графской жизни.
Графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу (1783–1844) решительно не повезло. В русском культурном сознании он остался только как коварный, мстительный и беспринципный главарь жандармов, орудие борьбы самодержавия против декабристов и Пушкина. Пусть так. Хотя как раз биография графа – в который уж раз – доказывает: мы знаем только то, что хотим знать. А это, согласитесь, далеко не равно тому, что знать бы надо. Достаточно уж того, что сам Александр Христофорович не считал 14 декабря и переписку с поэтом главными событиями своей многотрудной и блистательной карьеры.
Смысл жизни Бенкендорфа состоял в службе.
Офицер начинал своё восхождение к чинам, титулам и наградам при императоре Павле, продолжал при Александре I, а кульминационной высоты достиг при Николае I. Образованный, исполнительный, уравновешенный, он идеально подходил бы любой военно-бюрократической власти. Русский императорский двор абсолютно соответствовал его дарованиям. Как все персоны такого полёта, Бенкендорф свободно говорил и писал по-французски. Но и прародительского немецкого не забывал. Прусская принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, супруга великого Николая Павловича и она же будущая императрица Александра Фёдоровна, с удовольствием говаривала "с нашим милым Бенкендорфом" на языке Шиллера и Гёте.
Когда в 1826 году Александр Христофорович стал во главе Третьего отделения Собственной его императорского величества канцелярии, в обществе распространялась сладостная легенда. Будто государь Николай I призвал к себе нового главу политического сыска и вручил ему носовой платок:
– Будешь утирать слёзы сиротам и вдовам, утешать обиженных, стоять за невинно страдающих.
Такие мифы переживают века, переходят из поколения в поколение. Большевистский начальник "третьего отделения" Ф. Дзержинский остался в советской истории тоже как деятель с платком, большой друг детей-сирот и защитник всяческой справедливости. О человеколюбии людей этого типа можно было бы сказать, чуть перефразируя Льва Толстого: "Дяденька, платок потеряли!"
Склонность генерал-адъютанта Бенкендорфа к политическому сыску проявилась задолго до официального назначения. Ещё в 1821 году, будучи начальником штаба Гвардейского корпуса, он подал Александру I записку, составленную неким М.К. Грибовским. Автор открывал императору глаза на существование тайного "Союза Благоденствия" и предлагал "устранить" его лидеров. Государь не дал записке ходу, чем не только огорчил своего генерал-адъютанта, но и сделал возможным будущее восстание декабристов, скандальное начало следующего царствования.
Николай I, сменивший на престоле Александра, таких примитивных ошибок не делал.
Но всё-таки распространённое мнение о ведомстве Бенкендорфа как о ядовитом спруте, чьи щупальца проникали всюду и удушали всех, стойко держится и сегодня. На самом деле Третье отделение, опираясь на корпус жандармов, при своём начале в 1826 году было малочисленно, финансировалось скромно и располагало агентурной сетью, смехотворно несоизмеримой с населением империи. Чистым политическим сыском тут занималась только 1-я экспедиция. Остальные подчинённые графа изо дня в день рутинно присматривали за иностранцами, сектантами, фальшивомонетчиками и печатью. 4-я экспедиция, например, не столько доглядывала за поведением мужиков, сколько готовила справки о положении барских крестьян, видах на урожай, ценах на хлеб и т.д.
Бенкендорф никогда не был мужикоборцем. Боже сохрани. Как раз напротив. Известный историк Евгений Тарле ещё в советские времена рассказал весьма неожиданный эпизод.
В начале осени 1812 года, когда наполеоновские войска приближались к старой столице, подмосковные мужики, понятно, вооружились. У кого топор, у кого вилы, а у кого и ружьишко. В битве с супостатами не помещики мужиками распоряжались, а партизанские начальники. Кто-то из бар да чиновников испугался: крестьяне волю почуяли, вооружены. Да ведь это бунт. И полетела в Петербург бумага от губернатора с просьбой – усмирить, оградить, восстановить общественное благочиние. В Волоколамском уезде, по смыслу бумаги, бунтовала шайка мужиков во главе со священником. По приказу из Петербурга усмирять их должен был флигель-адъютант Бенкендорф, чей отряд действовал против французов как раз в Волоколамском уезде. Бенкендорф сразу и наотрез отказался воевать против мужиков. Своему командиру барону Ф. Винценгероде он писал: "Позвольте говорить с вами без обиняков. Крестьяне, коих губернатор и другие власти называют возмутившимися, вовсе не возмутились. Некоторые из них отказываются повиноваться своим наглым приказчикам, которые при появлении неприятеля, так же как и их господа, покидают этих самых крестьян, вместо того, чтобы воспользоваться их добрыми намерениями и вести их против неприятеля. Крестьяне избивают, где только могут, неприятельские отряды, вооружаются отнятыми у них ружьями... Нет, не крестьян нужно наказывать, а вот нужно сменить служащих людей. Я отвечаю за это своей головой".
По записке Бенкендорфа император Александр прекратил дело о бунте.
Эх, не происходил бы граф из немцев да не был бы потом жандармом! Его бы наверняка и по заслугам записали в герои Отечественной войны 1812 года, и стояло б ещё одно почтенное имя рядом с Багратионом, Денисом Давыдовым, Николаем Раевским или Яковом Кульневым. Граф со своим отрядом первым вошёл с боем в оставляемую французами Москву, в Кремль. Его усилиями спасены многие кремлёвские святыни, уже заминированные отступающим неприятелем. Александр Христофорович на всю жизнь запомнил, как выглядел Успенский собор – главная святыня России, – только что покинутый французами:
"Я вступил в собор, который видел только во время коронации императора блистающим богатством. Я был охвачен ужасом, найдя теперь поставленным вверх дном безбожием разнузданной солдатчины этот почитаемый храм, который пощадило даже пламя, и убедился, что состояние, в котором он находился, необходимо было скрыть от взоров народа. Я поспешил наложить свою печать на дверь и приставить ко входу сильный караул. Мощи святых были изуродованы, их гробницы наполнены нечистотами".
В этих немногих строках – весь Бенкендорф. Как человек русский и православный, он глубоко и искренно скорбит о поруганных святынях. А как присяжный службист, понимающий государственную надобность, он спешит засекретить, запечатать, обеспечить охрану. Чтобы не вводить простой народ в соблазн ненужных размышлений о религии и ее атрибутах. Точно так же граф поступал и по всей Москве, временным комендантом которой он служил до возвращения гражданских властей.
Император Николай I, будучи на тринадцать лет моложе Бенкендорфа, почитал в нём храброго ветерана Отечественной войны, а не только главу спецслужбы и исполнителя тайных поручений. Влияние графа на царя – сильное и постоянное – определялось, конечно, не должностью начальника Третьего отделения, а личностью самого Александра Христофоровича. О силе вельможи вообще судили не столько по его ведомству, сколько по близости к персоне монарха. При дворе всегда точно знали, сколько раз и с кем Его Величество беседовал вчера или на прошлой неделе. За Бенкендорфом, рассудительным и дипломатичным, государь был как за каменной стеной, а потому принимал его часто и подолгу.
Среди достоинств Бенкендорфа Николаю I импонировали его бесцветность, предсказуемость. Тут государь, надо думать, встретил родственную душу.
Но если служба требовала простой храбрости, нерассуждающей отваги – Бенкендорф бывал на месте. Столичные жители запомнили его самоотверженный порыв в часы знаменитого петербургского наводнения 1824 года. А.С. Грибоедов, коего трудно было удивить бесстрашием, рассказывал о невском "потопе":
"В эту роковую минуту государь (Александр I. – В.Л.) явился на балконе. Из окружавших его один сбросил мундир, сбежал вниз, по горло вошёл в воду, потом на катере поплыл спасать несчастных. Это был генерал-адъютант Бенкендорф. Он многих избавил от потопления".
На вершине государственной пирамиды все человеческие понятия искажаются, а уж понятие о дружбе едва ль не в первую очередь. И всё же императора Николая и графа Бенкендорфа связывали чувства более тёплые, чем обычная служебная приязнь. Решающую роль сыграли тут поездки государя по стране. Провозгласив себя реформатором, новым Петром Великим, Николай то и дело срывался с места, скакал то в Финляндию, то к Чёрному морю, то в Москву, то в Польшу, то в Украину. Место в дорожной карете подле императора обычно занимал Бенкендорф. В сословном быту даже минутный, мимолётный разговор с императором считался высочайшей честью; о нём вспоминали, передавали потомкам. А граф беседовал с царём во время долгих прогонов – днями, неделями. Из года в год.
В какую-нибудь Пензу или Смоленск государь любил нагрянуть неожиданно, застать врасплох губернатора, чиновников, военных. Тогда приходилось ехать рискованно, без охраны и сопровождения. Тут главный полицейский, министр, превращался в простого телохранителя. Бенкендорф предвидел, что однажды такие прогулки плохо кончатся. В августе 1836 года случилось то, что царь и граф называли между собой "кувыркколлегией". Ночью на грязной гористой дороге между Пензой и Тамбовом при подъезде к Чембару закрытая коляска перевернулась. Бенкендорф не пострадал, а его величество изволили сломать себе ключицу.
Граф, понятно, испугался. Но скоро успокоился и даже обрёл способность рассуждать философски:
– Видя передо мною сидящим на голой земле с переломанным плечом могущественного владыку шестой части света, которому, кроме меня, никто не прислуживал, – рассказывал Бенкендорф, – я был невольно поражён этою наглядною картиною суеты и ничтожества земного величества. Государю пришла та же мысль, и мы разговорились об этом с тем религиозным чувством, которое невольно внушала подобная минута. Нам пришлось добираться пешком...
Вот, оказывается, какие непридворные (и непритворные?) мысли посещали Александра Христофоровича. Только вряд ли мы о них узнали бы, если б сам царь, взволнованный и страдающий от боли, не подтвердил бы мнения своего вельможи. Бенкендорф обычно не расслаблялся, умел держать язык и перо на коротком поводке.
Та поездка в Пензу и Тамбов оказалась для графа одной из последних.
В следующем, 1837 году он опасно заболел. Его "облепили испанскими мухами, горчичниками, пиявками, заставляли глотать почти ежеминутно Бог знает какие микстуры". Но не это печалило опытного царедворца. Он тотчас же забыл о суете и ничтожестве земного величия и тяжело переживал решение царя ехать на Кавказ не с ним, Бенкендорфом, а с Алексеем Орловым. Этот Орлов потом и сменит Александра Христофоровича во главе Третьего отделения (Заметим в скобках: по советским меркам Орлова нельзя было назначать шефом тайной полиции – анкета плохая. Его родной брат Михаил был не только лидером декабристов, но ещё и на допросе надерзил лично царю).
Вернувшись из той кавказской поездки, император много часов подряд делился с Бенкендорфом своими впечатлениями. Граф записал их. И не как-нибудь, а в литературной форме. От первого лица. Кто б мог подумать, что общепризнанный гонитель журналистов умеет не только допрашивать, но ещё и брать интервью? Оно не лишено кое-каких писательских достоинств. Но больше всего потрясает, с какой глубиной и беспощадностью государь и Бенкендорф судят о непроходимой глупости и бесчестности родимого государства. На Кавказе, как и всюду, полно злоупотреблений: чиновники, натурально, берут взятки, бюджетные деньги испаряются невесть куда, офицеры гоняют солдат на работы в собственные имения, дороги не чинят, горцев унижают.
Граф записывает неутешительный общий вывод, сделанный царём на Кавказе и высказанный генералу А.А. Вельяминову:
"До сих пор местное начальство принималось за своё дело совсем не так, как следует; вместо того, чтобы покровительствовать, оно только утесняло и раздражало; словом, мы сами создали горцев, каковы они есть, и довольно часто разбойничали не хуже их. Я много толковал об этом с Вельяминовым, стараясь внушить ему, что хочу не побед, а спокойствия; что и для личной его славы, и для интересов России надо стараться приголубить горцев и привязать их к русской державе, ознакомив их с выгодами порядка, твёрдых законов и просвещения; что беспрестанные с ними стычки и вечная борьба только всё более и более удаляют их от нас и поддерживают воинственный дух в племенах, без того любящих опасности и кровопролитие".
Проницательности и верности этого взгляда можно только позавидовать. Сказано так, будто авторы не в ХIХ веке всё это наблюдают, а в ХХI. Русское время как бы стоит на месте. Но вот беда: ни Бенкендорф, ни Николай I до конца той кавказской войны не доживут. Верное понимание и благое намерение недостаточны, не помогают замирить горцев. Почему? Видимо, потому, что плод с древа истории можно срывать не раньше, чем он созреет. То же самое происходит и в других жизненно важных сферах. В приятельских беседах Николай Павлович и Александр Христофорович спокойно обсуждают крамольные темы – об освобождении крестьян, о наделении мужиков землёю, даже о выгодах республиканского правления по сравнению с монархическим. Но оба согласны: всё это преждевременно, а потому весьма опасно.
Почти два десятилетия Бенкендорф неустанно сопровождал своего государя. Кажется, у главы секретного ведомства нет тайн от его величества. Император знал всё – даже сердечные склонности своего верного слуги. И царь, и Бенкендорф женились одновременно, в 1817 году. Но это не мешало обоим с глубоким пониманием относиться к достоинствам других дам. Елизавета Андреевна Бенкендорф, урождённая Донец-Захаржевская, почтенная мать семейства, подозревает, что супруг не все дни и ночи отдаёт царской службе. Но общая секретность сыскного дела помогает Александру Христофоровичу хранить и собственные тайны.
Самая скандальная пассия графа – мадам Амели Крюднер, двоюродная сестра императрицы Александры Федоровны. Видная красавица с повадками гранд-дамы, она против своей воли была выдана за старого барона А.С. Крюднера и вознаграждала себя нежной дружбой с мужчинами большого света. Умный Бенкендорф скорее всего понимал, что баронесса Крюднер любит его небескорыстно, широко пользуется его деньгами, связями и даже служебными возможностями. Но поздняя страсть графа от этого не угасала. Не то чтобы Амели так вот прямо начальствовала в Третьем отделении и в корпусе жандармов. Однако ж её влияние на ход дел скоро перешло все допустимые границы.
Император не стал углубляться в густую смесь альковных и служебных подробностей, а принял простое и мудрое решение: назначил барона Крюднера послом в Стокгольм, куда Амели должна была следовать за супругом. Но баронесса отбывать в шведскую столицу не торопилась. В день отъезда она заболела... корью и выдерживала в Петербурге шестинедельный карантин. Дочь Николая I великая княжна Ольга с замечательным сарказмом вспоминала:
"Конечным эффектом этой кори был Николай Адлерберг. Никс Адлерберг, отец, взял ребёнка к себе и дал ему своё имя, но, правда, только после того, как Амели стала его женой".
Как видим, баронесса не хранила верности ни мужу, ни даже приближённому к престолу любовнику. Бедному Бенкендорфу полагалось это знать не только по личному, интимному опыту, но и по службе. Как-никак крупный скандал в семье видного дипломата.
С 1837 года влияние Бенкендорфа стало падать. Он болеет, всё чаще отдыхает в своём остзейском имении Фалль, лечится в Бадене. Смерть настигает его в августе 1844 года по пути из Бадена домой, в Россию. Узнав о кончине своего верного Александра Христофоровича, Николай I произнёс приличествующую случаю историческую фразу:
– Он ни с кем меня не поссорил, а примирил со многими.
Кто были эти "многие", так и осталось тайной императора. n
Александр ГЕРЦЕН:
"Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим. Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во всё, – я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица, – но и добра он не сделал: на это у него не доставало энергии, воли, сердца. Робость сказать слово в защиту гонимых стоит всякого преступления на службе такому холодному, беспощадному человеку, как Николай".