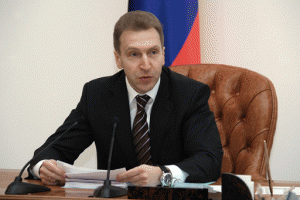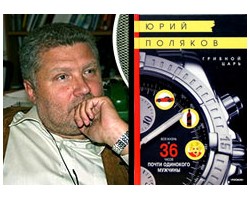Юрий Поляков
Любой поступок героя связан с нарушением закона или нравственности
В свет вышла новая книга главного редактора Литературной газеты Юрия Полякова. Писатель прославился еще в конце 80-х годов прошлого века своими социальными произведениями, самые нашумевшие из которых ЧП районного масштаба и 100 дней до приказа. Новый роман, несмотря на странное название Грибной царь, также затрагивает насущные проблемы.
- Юрий Михайлович, какое ваше любимое блюдо из грибов?
- Из грибов? Жареные с картошкой.
- Почему вы решили посвятить им книгу? На грибах завязан сюжет, они являются неотъемлемой частью романа, его философии и даже детективной линии. И фамилии многих героев какие-то грибные...
- У меня первоначально даже три президента имели грибные фамилии. Горбачев был Грибачевым, Ельцин был Подъеломиковым, а Путин был Паутинниковым. Но потом я решил не озорничать и вернул им их исторические имена. А грибы - потому, что я с детства люблю их собирать. И те леса, что описаны в романе, - приволжские места за Кимрами, Верхняя Волга - я там детские годы провел. Мы ходили собирать грибы, и с тех пор это у меня любимый вид отдыха. Ну, конечно, собирать, а не чистить.
- Жене отдаете?
- С боем.
- Ваши книги обычно очень динамичны и читаются на одном духу. Этого не скажешь о новом романе, сюжет постоянно перебивается такими флеш-бэками, воспоминаниями. К середине они так надоедают, что закрадывается мысль, а не бросить ли чтение. Для чего такое количество отсылок?
- Грибной царь - не развлекательный роман, хотя там и есть полудетективная линия, которая держит читателя в напряжении. Но первоначально у меня даже и ее не было, а писалась семейно-нравственная драма. Потом, когда из повести разросся роман, я понял, что нужно нажать на жесткий сюжет, иначе читатель заскучает. Но поскольку жанр книги - социально-психологический роман с элементами сатиры, то очень важно понять историю героя, его социально-нравственную драму, его бэкграунд.
Это для детектива Донцовой неинтересно, что с человеком было, как он формировался, какова история его социальной и нравственной болезни, а для того жанра, в котором я работаю, все очень важно. Поэтому постоянно идет отсылка в прошлое, а в романе в определенной степени использованы элементы потока сознания - ведь человек все время вспоминает свое прошлое. Даже принимая сиюминутные решения, он постоянно видит картины из детства и юности, первой любви и первой любовной драмы.
Человек живет одновременно в двух планах - в настоящем и прошлом, и решения чаще всего принимаются на основании прошлого опыта. Это необходимая часть романа, и понять мой замысел без отсылок в прошлое нельзя. А в каких-то местах приходится и остановиться, подумать чуть-чуть. И для того, чтобы сюжет держал в напряжении, иногда он должен как бы исчезать, оставляя читателя немножко в состоянии топтания на месте. Ведь если сюжет беспрерывно развивается, читатель точно так же устает от излишне динамичного сюжета, как и от длиннот.
- Судя по филологическим играм на протяжении всей книги, вы очень любите русский язык.
- У нас сейчас появилось большое количество писателей, которые не любят русский язык, но это как раз аномалия. Норма для писателя - любовь к родному языку, умение с ним играть, вылавливать его тайные вторые и третьи смыслы, чувствовать то, что называется семантической радугой слова, многообразие оттенков. Потому что одно и то же слово, поставленное рядом с разными словами, приобретает другой смысл.
К сожалению, нынешний читатель испорчен, варваризирован нынешним языком. Причем неважно, кто его портил: детективщики, авторы коммерческой литературы или постмодернисты - они все пишут на таком усредненном языке, который можно переводить с помощью самого элементарного словаря. Но если мы возьмем классиков, то увидим, что они все очень любили эту многозначность слова, его многооттеночность.
А что касается неологизмов, так любой человек, нормально владеющий языком, всегда придумывает какие-то слова. И в быту люди, которые хорошо говорят на языке, постоянно придумывают какие-то ситуативные синонимы, ситуативные неологизмы. Мой текст отражает нормальную стихию нормального русского языка. Не языка людей, которые говорят на словарном минимуме, а тех, кто по-настоящему владеет своим языком, чувствует его. Это, кстати, всегда отличает хорошую литературу от плохой. Не только русскую - любую.
- Мне показалось, что вы передаете свои мысли героям...
- Я, естественно, отдаю герою свои мысли. Но здесь нет какой-то натяжки или авторского произвола, потому что мой герой принадлежит примерно моему поколению. Он примерно моего возраста, примерно моего социального опыта и примерно моего образовательного уровня. И в в военном учебном заведении, которое он окончил (тем более, связанном с космосом), тогда давали очень хорошее образование. Учили думать, анализировать. Поэтому совершенно нормально, что у него кругозор, близкий к авторскому, здесь произвола никакого нет.
- Я имею в виду ваши размышления над эпохой Сталина или Горбачева. Горбачева от лица героя вы наделяете эпитетом - такая глупая сволочь, а Сталина делаете лучше, чем принято считать. Это схоже с вашим собственным мировоззрением?
- Что касается оценок, то такое ощущение складывается не потому, что я кого-то идеализирую или демонизирую. Просто так получилось, что в последние 15 лет Сталин демонизировался, а Горбачев, наоборот, идеализировался. И когда об этих людях герои начинают размышлять, опираясь на факты, в соответствии с их реальными историческими заслугами, то это кажется странным. Хотя на самом деле ничего странного нет, потому что Сталин при всех его проблемах и недостатках войну выиграл и страну упрочил, а Горбачев страну развалил. Это и есть сухой исторический остаток. А кто как любил свою жену - это уже вопрос второй.
На тех страницах, которые посвящены сталинской эпохе, я опираюсь в основном на новейшие научные исследования по этой проблеме. Сейчас вышла масса статей и книг, которые ввели в оборот обнаруженные в последние годы, ранее засекреченные документы. Такие как обнародование знаменитой попытки сталинской группы провести в 1937 году альтернативные выборы и таким образом совершить кадровую революцию. Парадокс заключается в том, что на уровне исторической науки эти факты общеизвестны, а в профанное сознание, в общеинформационный пласт они не пускаются, потому что сейчас профанное сознание формируется телевидением.
В электронные СМИ новые исследования, новые позиции также не пускаются, и получается парадокс: наука совершенно иначе смотрит на эту эпоху, она знает о ней гораздо больше, а мы продолжаем смотреть на все глазами шестидесятника, глазами XX съезда. Глазами Хрущева, который при Сталине, как известно, запросил самые большие лимиты на расстрелы, а в Московской области был одним из организаторов того террора, что приписывают Сталину. Это не значит, что Сталин не принимал участия в терроре, дело в том, что историческая правда гораздо многообразнее. Так, через семейную коллизию, семейную драму я пытался показать, насколько сложнее историческая реальность того мифа, который существует в обществе.
- Я недавно читала последний роман Наймана Каблуков, который, как он утверждает, частично посвящен женской чистоте и непорочности. Надо сказать, именно эту составляющую книги читать было довольно-таки неприятно, и никакой непорочности в этой старческой сладострастности заметно не было. Вот и у вас тоже вдруг возникают подробные описания женского тела, женских проблем и венерических болезней. Между тем, для русской прозы, к которой вы себя относите, такие физиологизмы нехарактерны. Вам что, хотелось таким образом привлечь внимание молодежи?
- Нет, молодежь сейчас привлекают нецензурной лексикой, наркотической романтикой и так далее. Дело в том, что именно такова жизнь современного нового русского. И практически любой поступок героя, даже направленный на благие дела, связан с нарушением или закона, или традиционной нравственности религиозных заповедей. Такова эпоха. И в ней формировался наш новый русский класс. И писать об этом, обходя что-то, невозможно. Я все-таки писатель-реалист, и если показываю физическую, нравственную, социальную драму человека, я должен быть достаточно близок к той правде, к той реальности, в которой он живет. Кстати говоря, она гораздо более жесткая и нелицеприятная, я ее, что называется, просеял сквозь сито русской прозы. Я вас уверяю, что, если бы о том же самом писал бы Сорокин, Ерофеев, это было бы просто нельзя читать в дамском обществе. Мой-то роман можно, хотя он способен вызвать неприятные ощущения. Тут, что называется, претензии к жизни.
- О чем вы собираетесь писать дальше? Не хотите написать что-то вроде ваших знаменитых 100 дней до приказа?
- Дело в том, что в романе в известной степени я вернулся к этой теме. Не случайно у меня герои - бывшие офицеры... Понимаете, в одну реку дважды войти нельзя. Мои ранние повести - ЧП районного масштаба, Сто дней до приказа, Работа над ошибками - они были написаны в духе разгребателей грязи, если брать английское течение. То есть они рассказывали о каких-то табуированных тогдашней литературой сферах, о проблемах, которые замалчивались, не допускались в общественное сознание. У них была совершенно иная задача - вскрыть правду о том или ином социальном явлении. Для того времени это был прорыв, это было прогрессивно, от них трясло всю страну. Но сейчас совершенно другое время, сейчас табуированных тем фактически нет. Дело не в том, о чем писать, а как писать.
Чтобы вернуться к теме 100 дней до приказа, у меня уже нет необходимого социального опыта. Мой армейский социальный опыт остался в советской эпохе. Какие-то свои претензии к нынешнему устройству нашей армии я постоянно высказываю в своих статьях, и у меня, кстати, вышла в прошлом году книжка под названием 100 дней до приказа, куда вошли и все мои статьи, интервью, посвященные армии. Вошел сценарий комедии Мама в строю, которую я написал в 1990 году и которая так и не была поставлена. Сначала ввиду ее остроты, а потом ввиду уже неостроты. Кстати, там и повесть 100 дней до приказа печатается по первоначальной рукописи, восстановлены некоторые купюры, которые были тогда сделаны цензурой.
Но как писателя меня сейчас волнуют несколько иные проблемы. Как гражданин, конечно, я возмущен тем, что под завесой борьбы за наемную армию фактически ничего за эти 15 лет не сделано. Это просто разговор в пользу бедных. Вместо того, чтобы 15 лет морочить людям голову контрактной армией, надо было улучшать призывную. А в результате мы сейчас не имеем ни контрактной армии, ни нормальной призывной. Вот чего добились.